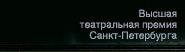Это спектакль-экскурсия. Экскурсия в московские послевоенные коммуналки. Туда, где возникают диспуты по поводу не съеденной каши, бросивший жену муж возвращается, чтобы потребовать жилплощадь для себя и новой жены, а кто-то строчит донос: «Муж бросил жену с тремя детьми-уродами, одна из которых тут же родила».
Художник Порай-Кошиц выстроил печальное нагромождение шкафов, столов, батарей и стульев. Из дверей шкафа выныривают персонажи, протискиваются меж батарей и письменных столов, спрыгивают с кровати на стул, а оттуда — на стол, чтобы сказать что-то о письмах товарищу Сталину или поинтересоваться, кто же забеременел на этот раз.
Беременность подлинная и ложная — магистральная тема обитателей этого мирка. Видимо, это связано с его угрожающей перенаселенностью и мечтой о новой жизни всех этих копошащихся в вещах существ. Во втором действии появляется ребенок — как флаг на баррикадах питерского художника будет водружена коляска.
Но не изменялось ощущение, что ты находишься в музее, и знающий экскурсовод-режиссер говорит: «Вот так жили люди. Нищета, битва за квадратные метры. И они любили, страдали, расходились, детей рожали».
Быть может, дело в том, что эти образы зависли где-то между сегодняшним и вчерашним днем — и о современности вроде ничего не говорят, и на разговор о вечном не тянут. К тому же чувствовался конфликт между причудливой декорацией и реалистическим стилем актерской игры и режиссуры. Многоэтажка Порай-Кошица, где из батареи «вырастал» стол, а над кухонным столом возвышалась кровать, требовала адекватной актерской игры.
Для меня спектакль МДТ «срифмовался» с выставкой доносов жителей московских коммуналок друг на друга, прошедшей в клубе «МуХА». Эти пожелтевшие от времени листочки свидетельствовали, что внутренняя территория человека становилась «местом общего пользования», как любили выражаться коммунальные граждане. Тот же процесс показан и в спектакле МДТ — кто-то из героев сопротивляется ему, кто-то, напротив, упоенно копошится в чужом грязном белье, попутно демонстрируя свое, кто-то изрыгает лозунг за лозунгом — о коммунизме, светлом пути и борьбе с «моральными разложенцами».
Но история, рассказанная Петрушевской, оставлена театром в пределах бытовой достоверности, и не сделана попытка (даже очень робкая) поднять этот сюжет на символический уровень или запустить карусель абсурда.
И проблема в этом, а не во временной отдаленности сюжета от современного зрителя. Ведь одним из первых спектаклей Льва Додина как худрука МДТ были «Братья и сестры», тоже посвященные послевоенной жизни. Но мощь художественного высказывания в «Братьях и сестрах» не сравнима с тем, что сейчас МДТ привез в Москву.
Когда-то спектакли “Gaudeamus” и «Клаустрофобия» в Малом драматическом, построенные на попытке поднести русской публике зеркало, где уже было готово изображение ее «кривой рожи», обвинялись в том, что Россия представлена как помойка, а режиссер этот образ успешно продает на Западе. Как раз те спектакли были вполне универсальны и выходили далеко за пределы описания состояния одной страны конкретного периода. А вот «Московский хор», действительно, если и может вызвать какой-то интерес — только этнографический.
Газета
Артур Соломонов, 5-06-2002