Глядя и, главное, слушая этот спектакль, можно было очень скоро понять, что тема спектакля поставлена широко и есть несомненное стремление дать гораздо более сложный мир поэтических образцов, чем тот, что допускает фабула сама по себе. Чувствуется это не только в том, что дополнена «Книга про бойца» другими стихами Твардовского, но, главное, в сценическом превращении стиха, в его трактовке, в манере воплощения ритмического начала в зримое и, наконец, в лирическом втором плане спектакля.
Еще в самом начале действия, когда оно только набирало силу, возникла как бы сама собой ассоциация, которая, наверное, и не была задана. Игрался эпизод переправы через реку, когда вражеский снаряд топит понтоны второго взвода.
На сцене бойцы, плывя, отталкивались длинными шестами; в момент самой катастрофы шесты стали медленно уходить вверх, оторвавшись от их рук. Это движение вертикально вверх стало зримым символом. И вот о чем это движение нам сказало: будто невидимое нам дерево выпрямляло свои ветки. Тот, кто знает ранние стихи Твардовского, вспомнит образ, освобождающихся веток от падающих плодов в саду. Нет нужды точно его цитировать, он возник вольно, потому что театр широко очертил для себя круг поэзии - не круг частного и одного сюжета.
Войдя в трагедийную по содержанию сцену, этот светлый образ жизни не изменил смысл сцены, но создал высокий строй сопоставлений: жизнь и смерть, плодородие и уничтожение - строй раздумий, свойственных Твардовскому.
Чуткость к стихам, их поэтическое, а не рациональное воспроизведение открывали многозначность образов.
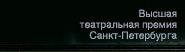  |
  |
Новости
22-11-2014 Прощание с Твардовским Оргкомитет и дирекция премии выражают глубокую признательность постоянным партнерам: Генеральный спонсор — ОАО «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА». Официальные спонсоры и меценаты: ОАО «АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА», ФИРМА «ЭЛЬГА», ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА. Партнеры: Фабрика СТД России «ГРИМ», а также ведущий российский провайдер «РОЛ» и проект “THEATRE. RU”. Генеральные информационные спонсоры — журналы «СОБАКА. RU» и “TIME OUT”, радио «ЭХО МОСКВЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ». Подробно: www.goldensofit.ru |
|
Золотой софит © 1995—2012 info@goldensofit.ru |
|
